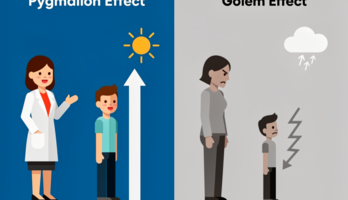Орлов И.Б. Политическая культура России XX века (2008) (1152142), страница 28
Текст из файла (страница 28)
С этим было связано появ*ление в крестьянской среде суждений об императрице Александре Фе*доровне и вдовствующей императрице Марии Федоровне как о«немках», якобы сочувствующих Германии и всеми способами вредив*ших России. Вкупе со слухами о самом императоре и придворной кама*рилье они стали первыми кирпичиками образа внутреннего врага —«темных сил», который стал интенсивно формироваться в массовом со*знании с лета 1915 года.Предписание Ставки военной цензуре ограничиться наблюдениемза соблюдением военной тайны открыло простор для критики прави*тельства в газетах.
Дело военного министра В. А. Сухомлинова (1848–1926) порождало впечатление, что измена свила гнездо повсеместно иособенно во властных верхах. Слухи об измене в окружении царя, в пра*вительстве, высшем генералитете наносили страшный удар по нрав*ственному авторитету монархии, разъедали веру в святость и правотуверховной самодержавной власти.
В отчете петроградского охранногоотделения за ноябрь 1916 года отмечалось, что слухам «верят больше,чем газетам, которые по цензурным соображениям не могут открыть всейправды». Известным отражением этой тенденции стал рост числа су*дебных дел, возбуждаемых за оскорбление императорской фамилии, ипоявление малоприличных карикатур и стихотворений, прежде всегона «распутинскую» тему.Лавинообразное нарастание во второй половине 1915–1916 гг. слу*хов, дискредитирующих монархию, можно проследить по материаламМинистерства юстиции.
Происходила десакрализация образа монарха,казавшегося оборотнем, не частью «мы», а представителем враждебнойобщности «они». Все чаще в слухах царь представал как пассивный итрагикомичный персонаж, которому в годы войны иногда противопос*тавляется энергичный Вильгельм. Слухи утверждали, что управляет107ГЛАВА 6страной императрица по указке Распутина, которые обманывают импе*ратора и манипулируют им.
3 февраля 1917 года рабочие у Путиловско*го завода кричали: «Долой самодержавную власть, так как государь незнает, кто правит страной и ее продает…». Понятно, что такой жалкийперсонаж слухов совершенно не соответствовал патриархальному иде*алу великого царя*самодержца, который насаждала официальная про*паганда. Но, по сути дела, в основе антимонархистских настроений ле*жала монархистская ментальность: императору в вину вменялось, чтоон не был «настоящим» царем. Кроме того, в обществе распространя*лись умело запущенные слухи о провалах власти, что ввергало земскуюобщественность в глубокий пессимизм.
В результате требования о рас*ширении земского представительства и немедленного проведения зем*ской реформы нередко облекались в ультимативные формы.Война актуализировала в крестьянском сознании проблему взаи*моотношений с помещиками. Начиная с 1916 года в письмах с фронтавсе чаще встречается возложение ответственности за начало войны напомещиков, якобы стремящихся избавиться от мужиков, так как послед*ние посягают на их землю. В свою очередь, мотивом открытых посяга*тельств на помещичью собственность стало представление об обосно*ванности притязаний в условиях войны на обеспечение семеймобилизованных за счет крупных землевладельцев, хотя наибольшеераспространение антипомещичьи акции получили в тех районах, где ксоциальному противостоянию примешивалась этническая рознь (запад*ные, юго*западные и поволжские губернии), а также там, где помещикиносили немецкие фамилии. В годы войны не прекратились выступле*ния крестьян*общинников и против столыпинского землеустройства.Солдатки, оказывающие активное сопротивление землеустроителям,следовали не только общему настроению большинства односельчан, нои указаниям своих мужей в письмах с фронта.
Хотя правительство в1916 году свернуло землеустроительные работы, крестьянство не пре*кратило борьбу с отрубниками и хуторянами за возвращение земли вобщинный фонд. Именно в годы войны, ознаменовавшейся усилениемгосударственной эксплуатации деревни, по мнению О. С. Поршневой,произошла консолидация большинства крестьян на базе общинных тра*диций и принципов, обеспечивающих совместное выживание.Со второй половины 1916 года недовольство властью и войной, сти*хийная жажда мира и справедливости становятся доминантами обще*ственного сознания уже широких слоев народа. При сохранении много*слойности и противоречивости народного сознания, сочетанииконсервативно*патриархальных, реформистских и революционно*обо*108Политическая культура периода Первой мировой войны...ронческих установок последние явно набирали силу при сохранениитрадиционалистских парадигм, определяющих фундаментальные пред*ставления о справедливости. Усиление антиправительственных настро*ений видно и в солдатских письмах.
«Человек с ружьем» становитсяглавным персонажем грядущей революции. В России в 1917 году пер*выми стали осуществлять грабежи и передел земельной собственностиименно многотысячные потоки дезертиров.Наиболее разумные и действительно патриотично настроенные об*щественные деятели России, понимая опасность, проистекающую изидейно*политической поляризации общества, указывали властям и еенепримиримым оппонентам на необходимость преодолевать разногла*сия путем взаимных уступок, без радикального потрясения основ об*щественного бытия. Но российский социум в целом был настроен наиную политическую тональность. Причиной революции в целом сталперманентный конфликт власти и общества, подчас напоминавший «ди*алог глухого со слепым».5.От Февраля к Октябрю: гражданский мирили гражданская война?Наиболее впечатляющей чертой Февральской революции была сте*пень всеобщей поддержки смены правительства.
Можно согласиться стаким авторитетным историком, как А. П. Ненароков, особо подчерк*нувшим общий характер процесса демократизации, начавшегося послесвержения самодержавия. Но есть ряд уточнений. События начала мар*та 1917 года обнаружили фундаментальное несовпадение природы со*всем недавно единого недовольства режимом со стороны различных сло*ев общества. В то время как центральное место в спорах между лидерамиедва сформировавшегося Временного правительства и ПетроградскогоСовета сразу занял вопрос о значении войны для «жизненных интере*сов» России, то основная масса простых людей была озабочена нестолько самой войной, сколько тем, как она влияла на качество и уро*вень жизни.
Революционные события были замешаны на социальныхиллюзиях и надеждах, что жизнь станет лучше. Современник событийзафиксировал в своем дневнике в 1917 году: «Наша дворничиха тетяПаша верит в то, что теперь все дешево будет». Но потом, когда оказа*лось, что путь к демократии — не столько праздник, а хлеб и сахар вооб*ще исчезли с прилавков, многие были готовы пожертвовать всем, чтобытолько вернуться к подобию нормальной жизни.
По этому поводу «про*стой рабочий» в письме к российскому премьеру А. Ф. Керенскому(1881–1970) предлагал забрать назад свободу с революцией, если при*109ГЛАВА 6ходится голодному ложиться спать. Средние слои — чиновничество,офицерство и интеллигенция — приветствовали политическую свобо*ду, принесенную Февральской революцией, но уже довольно скоро об*наружили, что эта свобода имела и обратную сторону, — ведь револю*ция всколыхнула не только «низы», но и социальное «дно».Уже к концу весны произошла идентификация государства с темиили иными обязательствами и обещаниями.
В это же время легитим*ность представительного государства стала связываться не с определен*ными демократическими процедурами, как это было раньше, а с их эф*фективностью, как это было при царизме. Становящиеся автономнымигосударственные институты на деле становились все менее способны*ми откликаться на народные нужды и ожидания. В результате ценности«демократии участия», которые эти институты отражали, все более ока*зывались под вопросом. На деле отречение царя лишь формально озна*чало конец самодержавия в России, так как сохранялся целый наборкультурно устоявшихся элементов общественных отношений, которыев определенных социально*политических границах воссоздавали соот*ветствующие формы власти и контроля. Известны случаи, когда солда*ты отказывались присягать Временному правительству, рассматриваясамо упоминание о государстве как проповедь монархизма.
Иначе гово*ря, парадоксальное на первый взгляд сочетание антимонархических на*строений и монархистской ментальности не было чем*то необычным вэтот период. При этом массовое сознание сохраняло монархистскуюментальность. Место царя в массовом сознании занимают «вожди де*мократии», и, прежде всего, А. Ф. Керенский, вокруг которого, как «сим*вола демократии», в 1917 году сложился целый культ.Включение термина «демократия» в собственный политическийлексикон стало обязательным практически для всех политических сил —от большевиков до корниловцев. Однако исследование современногоисторика Б. И. Колоницкого показало, что термин «демократия» в1917 году воспринимался специфически, часто выражая определенныйтип самоидентификации.